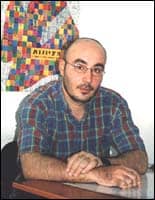Дов Конторер
В отношении к празднику Ханука выделяются пять основных аспектов, которые с разной силой подчеркивались различными еврейскими группами в различные исторические эпохи. Этими аспектами являются:
1) чудо;
2) война;
3) эллинизация;
4) мученичество;
5) свет.

Матиньягу убивает еврея идолопоклоника.
Чудо
Именно этот аспект, то есть память о чуде с уцелевшим сосудом освященного масла, особенно ярким образом запечатлен в символике, гомелетике и литургической практике иудаизма. Талмуд (Шаббат, 21б) лишь мельком упоминает о подвигах Хасмонеев, выделяя храмовое чудо как главную причину установления Хануки в качестве еврейского праздника:
«Что такое Ханука? Учили мудрецы: с 25 кислева — восемь дней Хануки, в них не оплакивают покойных и не постятся, [в честь того, что] когда вошли греки в Храм, осквернили [они] все находившееся там масло, и когда победило их царство Хасмонейского дома, то нашли [победители] в Храме только один сосуд с маслом, запечатанный печатью первосвященника1. Хватило бы этого масла на один день, но свершилось с ним чудо и горело оно восемь дней2. На следующий год установили эти дни праздничными, с хвалебными и благодарственными молитвами».
Маймонид уделяет чуть больше внимания Хасмонеям, приступая к изложению законов о Хануке в своем кодексе «Мишне Тора»:
«Во времена Второго Храма греческие цари подвергали евреев преследованиям и пытались искоренить их религию, не давали им исполнять Тору и заповеди, протянули руку свою к их имуществу и дочерям, и вошли они в Храм, и разграбили и осквернили его. Когда вовсе изнемогли евреи, сжалился над ними Бог наших отцов и спас их, и дал им избавление. И одолели [греков] Хасмонеи, великие коханим, и победили их, и спасли Израиль от их руки, и поставили царя из священнического рода, и вернулось царство к Израилю на двести с лишним лет3, до разрушения Второго Храма».
Далее Маймонид пересказывает своими словами приведенную выше барайту из Вавилонского Талмуда и приступает к детальному изложению законов о зажигании ханукальных свечей, праздничных молитвах и т.п.
Война
Этот аспект безусловно присутствует в спектре традиционного отношения иудаизма к празднику Ханука, но несколько приглушенным образом. В качестве причин, определивших сдержанное отношение Талмуда к подвигам Хасмонеев, называют, как правило, постепенную деградацию Хасмонейской династии, ставшую в последний период существования Второго Храма жестокой, коррумпированной и презираемой властью. Кроме того, здесь необходимо отметить общую смену ориентиров, произошедшую в еврейском религиозном сознании после жесточайшего подавления римлянами восстания Бар-Кохбы (132-135 гг. н.э.)4.
Интерес к военно-историческому аспекту праздника Ханука заметно оживился в еврейской среде в XIX веке и особенно с появлением сионистского движения. В годы, предшествовавшие провозглашению Государства Израиль, Ханука отмечалась в сионистских кругах как едва ли не главный национальный праздник, будучи своеобразным прообразом Дня Независимости. Последующий упадок патриотических настроений в израильском обществе предопределил заметную утрату интереса к Хануке в секулярной среде. Более того, для известной части израильской элиты речь идет даже не об утрате интереса, а о намеренном вытеснении этого праздника из публичного информационного пространства — ввиду того, что отнесено нами здесь к следующему смысловому аспекту.
Эллинизация
Ханука знаменует собой первую встречу евреев с греками, результатом которой стало со временем глубочайшее взаимовлияние Афин и Иерусалима (в традиционной метафорике иудаизма данная тема прослеживается через две символические пары: Шем и Йефет, Яаков и Эсав). Не будет преувеличением сказать, что как античный мир, так и еврейство вышли из этой встречи «другими», в существенной мере преобразившимися, но их первое столкновение неслучайно приобрело характер яростной конфронтации. И так же неслучайно то, что греки, проявлявшие терпимое отношение ко всем покоренным ими богам и народам, повели себя иначе, встретившись в Иудее с Богом Израиля.
Для евреев эта коллизия сопровождалась глубоким внутренним расколом. Проводившаяся селевкидами политика насильственной эллинизации нашла немало союзников в еврейской среде (их называли митъявним, то есть уподобляющие себя грекам, тогда как за другой частью народа, сохранявшей верность Торе и заповедям, закрепилось тогда название хасидим благочестивые). Хасмонейское восстание началось как гражданская война, когда Матитьяу убил еврея-священника, совершавшего по приказу царя служение идолам в городе Модиин. Лишь год спустя, когда Йеуда Маккавей заменил своего скончавшегося отца в качестве предводителя восстания, война гражданская (против евреев-митъявним) превратилась в национально-освободительную (против греков-селевкидов). Верно, что именно это предопределило успех Хасмонеев, тогда как два века спустя борьба против римлян, выродившись в братоубийственную гражданскую войну, завершилась падением Иудеи.
Здесь нельзя не заметить, что Йеуда Маккавей был, по всем имеющимся у нас сведениям, не только замечательным полководцем, но также выдающимся политиком и государственным деятелем. Трудно переоценить принятое им решение о превращении войны гражданской в национально-освободительную, но невозможно игнорировать и те реальные обстоятельства, которыми было вызвано Хасмонейское восстание, включая предательство еврейской элиты, воспринявшей ценой отказа от собственного «Я» и связанного с ним предназначения культуру, стратегию и цели врага. Понятно, что этот ханукальный аспект сегодняшнюю секулярную элиту в Израиле привлечь не может. Напротив, он угнетает и пугает ее.
Примечания
1Обнаруженный археологами глиняный чехол для письма с печатью первосвященника представлен ныне в Музее Израиля в Иерусалиме.
2Хасмонеям потребовалось восемь дней для изготовления нового масла, поскольку семидневный срок установлен Торой в качестве необходимого периода очищения от трупной нечистоты, которой подвержен всякий, кто прикасался к мертвому телу. Золотой храмовый семисвечник, Менора, был похищен греками, и Хасмонеи использовали на первых порах самодельный светильник, который они изготовили из своих копий, покрыв их цинком (см. «Мегилат Таанит», «Псикта раббати» и ряд упоминаний в Вавилонском Талмуде).
3Реальный период еврейской независимости длился тогда значительно меньше: со 142 г. до н.э., когда селевкидский правитель Деметрий освободил Иудею от выплаты дани, признав тем самым ее независимость, до 63 г. до н.э., когда армия Помпея завоевала Иерусалим и римляне, упразднив в Иудее царскую власть, отторгли от нее значительные территории. Говоря про «двести с лишним лет», Маймонид включает в период «царства» как ранние годы хасмонейского правления, так и весь срок вассального существования Иудеи под властью Рима, вплоть до Великого восстания (Иудейская война) и разрушения Второго Храма в 70 г. н.э.
4Отмеченная смена ориентиров может быть охарактеризована как дискредитация бунтарского духа и надежды на скорое восстановление государственной независимости; эта дискредитация явилась результатом нескольких проигранных войн, в которых были задействованы все духовные ресурсы еврейства. В начале новой эры бродящая Иудея, несмотря на относительную малочисленность своего населения, воспринималась как зона хронической нестабильности и источник постоянной опасности для всей Римской империи. Дважды в течение 70 лет евреи устраивали массовые восстания, вынуждавшие римлян стягивать в Иудею войска со всех концов мировой империи. Этот беспримерный бунтарский дух стал тогда притчею во языцех, но в конце концов он был сломлен римлянами, когда те подавили восстание Бар-Кохбы (132-135 гг. н.э.), разрушив в Иудее 50 крепостей, опустошив 985 деревень, убив 580 000 человек и продав в рабство сотни тысяч (по Диону Кассию). В конце II века н.э., то есть в период кодификации Мишны, опыт бунтарства, войны и т.п. воспринимался уцелевшими мудрецами как отрицательный, и это сказалось на образе прошлого, который сформировался в Талмуде. Лишь такие огромные факты, как причастность к восстанию Бар-Кохбы рабби Акивы и других виднейших учителей еврейства в предыдущем поколении, не могли быть замолчаны в этом новом религиозно-психологическом контексте.
В начале статьи были рассмотрены три первых тематических и смысловых аспекта праздника Ханука-чудо с маслом, победа в войне, борьба с эллинизацией.
Во второй части статьи речь идет о двух других аспектах: о мученичестве и свете.

Кидуш а-Шем. Казнь Элазара и семи сыновей Ханы.Из ханукальной рукописи, Германия, XVI в.
Мученичество
Обретя в захваченной Иудее многих еврейских союзников, Cелевкиды были поражены готовностью другой части народа, хасидим, терпеть невероятные муки и добровольно идти на смерть ради своей веры (кидуш а-Шем, то есть освящение Имени Творца через самопожертвование). Ни репрессии оккупантов, ни предательство еврейской элиты не могли сломить этого сопротивления, заставившего пришельцев понять, что Б-г Израиля не уживется с другими богами в общем номенклатурном пантеоне, пополнявшемся по ходу греческих завоеваний на Востоке.
Исторические хроники сохранили множество преданий о самоотверженном поведении евреев, принимавших любые муки ради того, чтобы не нарушить главных запретов Торы. Нет сомнения в том, что данная традиция существенным образом повлияла на позднейшие концепции религиозного мученичества в христианстве и исламе; к примеру, история «Хана и семеро ее сыновей», которая приведены во 2-й и 4-й Книгах Маккавеев, благополучно перекочевала в христианство.
Острое звучание данной темы в настоящее время, на фоне многочисленных проявлений мусульманского шахидизма, побуждает охарактеризовать основные различия между идеей религиозного мученичества в иудаизме и в исторически связанных с ним религиях. Постулируя кидуш а-Шем в качестве обязанности каждого еврея при определенных, вынуждающих к тому обстоятельствах, иудаизм, как религия жизни (торат-хаим), не утверждает мученичество в качестве положительного ориентира, к которому нужно стремиться. Позицию еврейского мученика почти во все времена можно было сформулировать следующим образом: «Я люблю дарованную Б-гом жизнь, но не желаю и не могу спастись ценой отказа от ее смысла». Перспектива обращения в другую религию безусловно мыслилась иудеем как отказ от смысла жизни, побуждая его к последнему подвигу, когда иного выбора, кроме гибели и отступничества, у него не оставалось.
Верно, что это «не желаю и не могу» иногда воспринималось окружающими как невероятное равнодушие иудеев к смерти. Более того, история доносит до нас свидетельства о значительных еврейских коллективах, для которых была характерна в определенный период едва ли не жажда мученичества. Нечто подобное можно утверждать о рейнских общинах XI-XII вв., которые были охвачены сильнейшим мессианским настроением (хасидей Ашкеназ). В ряде случаев члены этих общин не дожидались, пока их убьют за отказ креститься, и убивали собственными руками своих жен и детей, а затем и самих себя, в окруженных крестоносцами крепостях.
Тем не менее, необходимо подчеркнуть, что убийства близких и самоубийства совершались евреями рейнских общин в виду совершенно реальной угрозы принудительного крещения. Кроме того, установившаяся по следам этих событий алахическая норма иудаизма запрещает еврею убивать самого себя или своих детей из опасения насильственного обращения в чужую веру (Шулхан Арух, Йоре Деа, 157). Таким образом, утверждение о нехарактерности для иудаизма добровольного мученичества можно повторить как отражающее общую позицию еврейской религии.
Разумеется, в еврейской традиции можно найти утверждения, согласно которым «этот мир подобен прихожей, а мир грядущий — чертогу», но в целом для нее характерно настойчивое утверждение достоинства человеческой жизни, при безусловном признании того, что Творец этого мира является Единственным, Истинным и Благим Богом. Как следствие, стимуляция добровольного мученичества не присуща иудаизму. Свод еврейских религиозных представлений, связанных с идеей кидуш а-Шем, всегда предполагает наличие непосредственной угрозы тому, без чего любимая иудеем жизнь лишается своих оснований. Именно поэтому всевозможные сатанисты и гностики часто видят в евреях ненавистных агентов Живого Бога, уничтожив которых, можно сломать ограду «концентрационной вселенной» и вырваться из-под власти «демиурга».
С другой стороны, фундаментальное еврейское жизнелюбие вовсе не тождественно заявлениям недоучившихся гуманистов, согласно которым человеческая жизнь является высшей ценностью. Человеческая жизнь есть условие существования ценностей, но сама она как «высшая ценность» котироваться не может. Понятно, к примеру, что продолжение жизни важнее самой жизни, и об этом свидетельствует каждая женщина, решаясь родить ребенка (а в прежние времена, когда роды были много опаснее, это свидетельство было еще весомее). Еврейская позиция вовсе не постулирует «выжить любой ценой» в качестве абсолютного принципа; напротив, ей хорошо известна цена, которую за индивидуальное выживание человеку платить не стoит, и оттого, наверное, еврейство как коллектив оказалось таким живучим.
Свет
Этот аспект неизбежно присущ празднику света, отмечаемому в самое темное время года. Здесь естественно усмотреть аналогию с обычаями многих народов, косвенное признание чего мы находим уже в Талмуде (Авода зара, 8а), где по ходу алахической дискуссии об ограничениях, которых надлежит придерживаться евреям во время языческих праздников, приводится следующая агада:
«Сказал рав Ханан бар Рава: Календа [Calendae] — восемь дней после зимнего солнцестояния, Старнуна [Saturnalia] — восемь дней перед зимним солнцестоянием, и запомнишь это [посредством стиха из Псалмов, 139:8]: «Спереди и сзади Ты притеснил меня». Учили мудрецы: увидев [с наступлением первой зимы], что день становится все короче и короче, сказал Адам: «Из-за того, что я согрешил, мир темнеет и возвращается в хаос, это и есть та смерть, которой наказали меня Небеса». Сидел восемь дней в посте и молитве. Увидев по прошествии зимнего солнцестояния, что день снова становится длиннее, сказал: «Так устроен мир». Установил [Адам] восемь праздничных дней, а на следующий год праздновал и те, и другие [до и после зимнего солнцестояния]. Он установил праздновать их для Всевышнего, а они [язычники присвоили себе эти праздники и] установили их праздниками для идолов».В Талмуде не проводится прямая связь между восьмидневным праздником первого человека и позднейшим установлением Хануки в месяц кислев, когда начинается ткуфат-тевет, то есть период постепенного увеличения светового дня. Время празднования Хануки объясняется в еврейской традиции исторически, как дата очищения Храма победившими Хасмонеями, а не «природно». И все же определенная связь здесь угадывается, поскольку именно этот период был выбран для праздника из целого ряда знаменательных дат, связанных с Хасмонейским восстанием и упомянутых в Мегилат Таанит1.
Утверждение о том, что уже «на следующий год установили эти дни праздничными», трудно признать отражающим историческую действительность. Сроки празднования, характер, главные смысловые акценты Ханукки определились постепенно и, возможно, в некоторой связи с вышеприведенной аггадой из талмудического трактата «Авода зара». То, что этот момент не заявлен в еврейских источниках явным образом, можно объяснить нерасположенностью Талмуда к «естественному» истолкованию религиозного действия. Правомерность подобного умолчания подтверждает сегодняшняя ситуация в США и других странах Запада, где для значительной части неортодоксального еврейства Ханука превратилась в бессодержательный суррогат Рождества.
Примечание
1Например, 17 элула (вероятный день начала восстания), 13 адара (день Никанора), 23 ияра (захват иерусалимской крепости Акра), 23 мархешвана и 3 кислева (дни удаления греческих культовых сооружений, сурига и симуот, с Храмовой горы), 28 швата (день снятия Лисием осады с Иерусалима) и др. При выборе даты начала праздника Ханука сыграло роль и то обстоятельство, что 25 кислева был заложен фундамент Второго Храма при пророках Хаггае и Зехарьи (около 520 г. до н.э., за три с половиной века до Хасмонейского восстания) и в этот же день, 25 кислева, согласно I и II книгам Маккавеев, Храм был осквернен Селевкидами.(Из статьи: Ханукальный лексикон. Впервые опубликовано в журнале «Окна», 18 и 25 декабря 2003 г.)

Греки ведут Элазара к языческому алтарю. Гравюра, 1704 г.
Источник: http://midrasha.net